ТЕАТР БАУХАУСА: ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОСКАРА ШЛЕММЕРА
ТЕАТР БАУХАУСА: ЭКСПЕРИМЕНТЫ ОСКАРА ШЛЕММЕРА
В период 1920-30х гг., на который приходится активность Оскара Шлеммера как театрального деятеля, абстрактный театр уже сформирован. Стоит упомянуть такие яркие его проявления как супрематические опыты Малевича («Победа над солнцем»), работу Пикассо для балета «Парад» совместно с музыкантом-новатором Эриком Сати; работу Софи Тойбер над куклами для дадаистского кабаре «Вольтер»; проект электромеханического театра
Эль Лисицкого; формирование конструктивистского театра во главе
с Мейерхольдом – все это имеет общую природу с опытами Шлеммера и в той или иной степени оказывает на него влияние. Все эти эксперименты так или иначе рефлексируют новую реальность,
в которой оказался человек – реальность прогресса технологий
и серьезных политических потрясений.
Эль Лисицкого; формирование конструктивистского театра во главе
с Мейерхольдом – все это имеет общую природу с опытами Шлеммера и в той или иной степени оказывает на него влияние. Все эти эксперименты так или иначе рефлексируют новую реальность,
в которой оказался человек – реальность прогресса технологий
и серьезных политических потрясений.
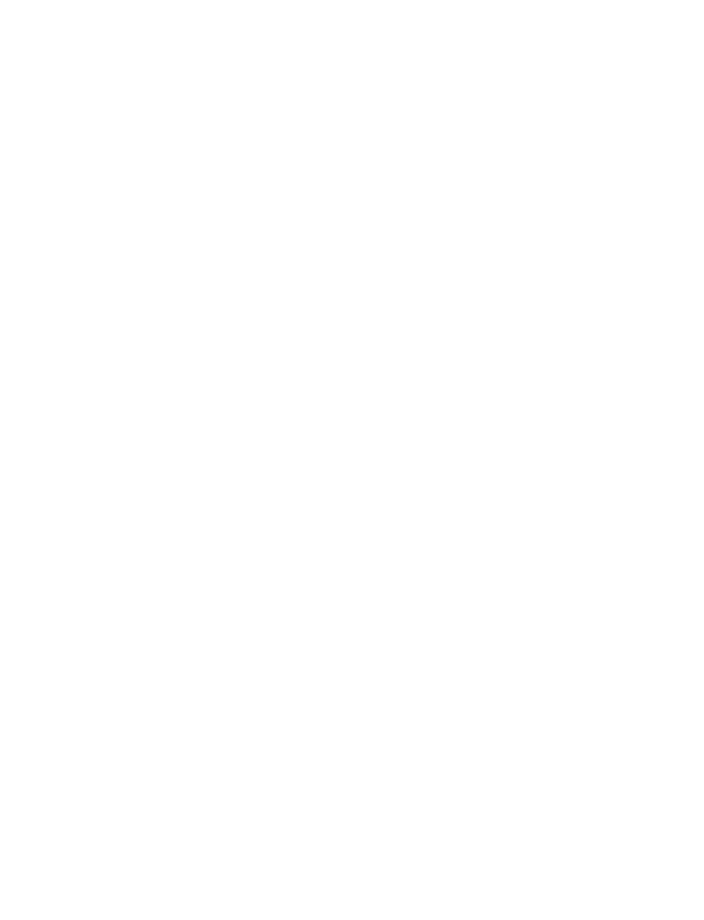
Оскар Шлеммер. Фото: theguardian
Оскар Шлеммер родился в Штутгарте
в 1888 году. Уже в раннем возрасте он потерял обоих родителей и зарабатывал на жизнь как ремесленник на фабрике по обработке древесины. Шлеммер застал все самые сложные события первой половины XX столетия как для мира, так и для Германии: Первую Мировую войну, период становления, расцвета и упадка Веймарской республики, приход к власти национал-социалистов и даже первый год Второй мировой войны. Все эти исторические события определили социальную направленность идей Шлеммера, его обращенность к человеку и к категориям порядка в противовес хаосу нового столетия.
За годы активной творческой деятельности Шлеммер пробовал себя в разных стилях, жанрах, направлениях и видах искусства. Особенно он интересовался геометрической абстракцией, экспрессионизмом и кубизмом – всё это он использовал и в ходе экспериментов в театральной мастерской Баухауса.
в 1888 году. Уже в раннем возрасте он потерял обоих родителей и зарабатывал на жизнь как ремесленник на фабрике по обработке древесины. Шлеммер застал все самые сложные события первой половины XX столетия как для мира, так и для Германии: Первую Мировую войну, период становления, расцвета и упадка Веймарской республики, приход к власти национал-социалистов и даже первый год Второй мировой войны. Все эти исторические события определили социальную направленность идей Шлеммера, его обращенность к человеку и к категориям порядка в противовес хаосу нового столетия.
За годы активной творческой деятельности Шлеммер пробовал себя в разных стилях, жанрах, направлениях и видах искусства. Особенно он интересовался геометрической абстракцией, экспрессионизмом и кубизмом – всё это он использовал и в ходе экспериментов в театральной мастерской Баухауса.
Оскар Шлеммер и Баухаус
В 1919 году в немецком городе Веймар была образована Высшая школа строительства и конструирования — Баухаус. Буквально это слово переводится с немецкого как «дом строительства». Первым директором
и вдохновителем школы стал немецкий архитектор Вальтер Гропиус, который сформулировал ее главный принцип так: «Мы хотим вместе придумывать
и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры».
и вдохновителем школы стал немецкий архитектор Вальтер Гропиус, который сформулировал ее главный принцип так: «Мы хотим вместе придумывать
и создавать новое здание будущего, где все сольется в едином образе: архитектура, скульптура, живопись, — здание, которое, подобно храмам, возносившимся в небо руками ремесленников, станет кристальным символом новой, грядущей веры».
Художники, скульпторы, архитекторы и ремесленники, объединившиеся
для преподавания в школе, не просто создавали продукты массового потребления. Они участвовали в формировании быта нового человека.
Их искусство, таким образом, становилось социальным, работающим
на потребности общества. В апреле 1927 года Шлеммер отметит в дневнике: «Собор социализма». Изначально фраза звучала как: «Собор социализма, основанный после разрушающей войны, посреди хаоса революции и на пике переполненности искусства взрывной эмоциональностью. Мы основываем место для всех, приверженных будущему и способных бросить вызов установленным порядкам, чтобы построить собор социализма».
Развитие театральных дисциплин Вальтер Гропиус видел, как важную часть образовательной программы школы: «Сценическое искусство по своему оркестровому характеру созвучно строительному искусству, они много дают друг другу. Как в архитектуре все должны забыть свое «я», чтобы подчиниться единой высшей цели создания синтетического искусства, так и на сцене существует много художественных проблем, которые будучи решены
по общим для них законам, образуют новое большое единство».
для преподавания в школе, не просто создавали продукты массового потребления. Они участвовали в формировании быта нового человека.
Их искусство, таким образом, становилось социальным, работающим
на потребности общества. В апреле 1927 года Шлеммер отметит в дневнике: «Собор социализма». Изначально фраза звучала как: «Собор социализма, основанный после разрушающей войны, посреди хаоса революции и на пике переполненности искусства взрывной эмоциональностью. Мы основываем место для всех, приверженных будущему и способных бросить вызов установленным порядкам, чтобы построить собор социализма».
Развитие театральных дисциплин Вальтер Гропиус видел, как важную часть образовательной программы школы: «Сценическое искусство по своему оркестровому характеру созвучно строительному искусству, они много дают друг другу. Как в архитектуре все должны забыть свое «я», чтобы подчиниться единой высшей цели создания синтетического искусства, так и на сцене существует много художественных проблем, которые будучи решены
по общим для них законам, образуют новое большое единство».
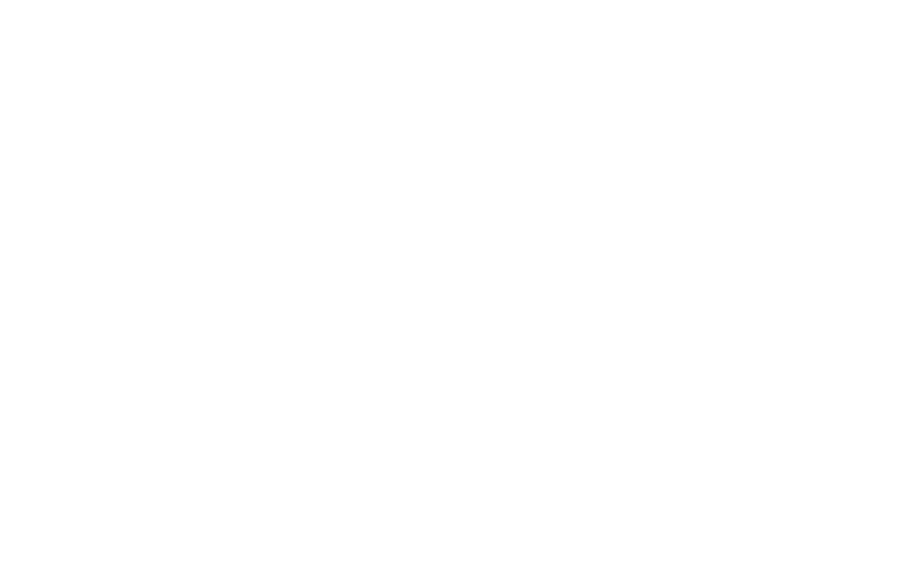
Оскар Шлеммер со студентами сценической мастерской на крыше школы в Дессау, 1927
Выбрав центром своего искусства человека
в послевоенную индустриальную эпоху, Шлеммер сделал упор на положительной стороне процессов нового столетия. В своем эссе «Человек и марионетка» он утверждал абстракцию (как новую абстрактную среду вокруг человека) и механизацию
(как совокупность достижений прогресса)
как основные термины нового времени,
в котором живет новый человек. По мнению Шлеммера, история театра есть история изменения человеческой формы, а ареной этого изменения он видел конструктивное слияние
с пространством и строением, областью архитектора. Такие воззрения отвечали общей программе Баухауса.
в послевоенную индустриальную эпоху, Шлеммер сделал упор на положительной стороне процессов нового столетия. В своем эссе «Человек и марионетка» он утверждал абстракцию (как новую абстрактную среду вокруг человека) и механизацию
(как совокупность достижений прогресса)
как основные термины нового времени,
в котором живет новый человек. По мнению Шлеммера, история театра есть история изменения человеческой формы, а ареной этого изменения он видел конструктивное слияние
с пространством и строением, областью архитектора. Такие воззрения отвечали общей программе Баухауса.
Перформативные практики Оскара Шлеммера и его мастерской
За два года работы в Баухаусе (1921-1923-е гг.) Шлеммер успел проявить себя
и возглавить две мастерские – мастерскую монументальной живописи
и мастерскую скульптуры. Однако, ему было недостаточно выразительных средств и приемов этих видов изобразительного искусства. Он начал выходить за их рамки и стал задействовать непосредственно человека
в своем искусстве. Шлеммер расширил границы путем эксперимента.
и возглавить две мастерские – мастерскую монументальной живописи
и мастерскую скульптуры. Однако, ему было недостаточно выразительных средств и приемов этих видов изобразительного искусства. Он начал выходить за их рамки и стал задействовать непосредственно человека
в своем искусстве. Шлеммер расширил границы путем эксперимента.
«Фигуративный кабинет I»
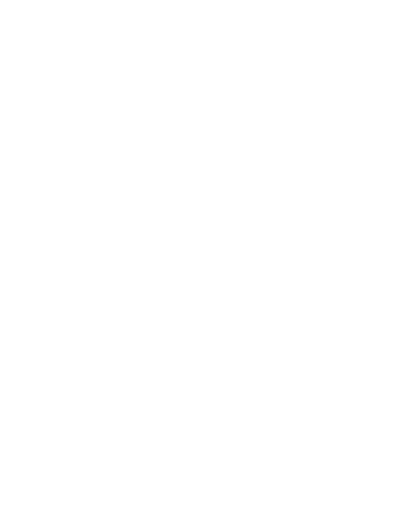
Перформанс «Фигуративный кабинет». 1922 г.
Первая выставка школы Баухауса прошла
в 1923 году, ее лейтмотивом стал девиз «Искусство и техника – новое единство».
К этой выставке Шлеммер уже успел получить руководство театральной мастерской
и представить публике свой перформанс «Фигуративный кабинет I». Сам он характеризовал его как «наполовину тир, наполовину метафизическую абстракцию», «смысл и бессмыслицу, осуществленные за счет цвета, формы, природы и искусства, человека
и машины, акустики и механики».
В качестве действующих лиц выступают абстрактные фигуры – белая, желтая, красная
и синий шар. Затем последний превращается
в маятник, а вокруг группируются персонажи – «Корпус скрипки», «Клетчатый», «Стихийный», «Джентльмен высшего класса», «Мисс Рози Ред» и «Турок». Фигуры бегают по сцене, пытаясь соединиться с головами, которые убегают
от них в противоположную сторону. Каждый раз при воссоединении головы и тела раздается победный марш. Гигантская рука кричит: «Стой!», ангел возносится над сценой и щебечет, а персонаж
Э. Т. А. Гофмана в испуге стреляет себе в голову. Невозмутимо раскручивается валик штор, показывая части тела, цифры, объявления. По бокам сценическое пространство венчают фигуры, чье настроение отражают барометры.
в 1923 году, ее лейтмотивом стал девиз «Искусство и техника – новое единство».
К этой выставке Шлеммер уже успел получить руководство театральной мастерской
и представить публике свой перформанс «Фигуративный кабинет I». Сам он характеризовал его как «наполовину тир, наполовину метафизическую абстракцию», «смысл и бессмыслицу, осуществленные за счет цвета, формы, природы и искусства, человека
и машины, акустики и механики».
В качестве действующих лиц выступают абстрактные фигуры – белая, желтая, красная
и синий шар. Затем последний превращается
в маятник, а вокруг группируются персонажи – «Корпус скрипки», «Клетчатый», «Стихийный», «Джентльмен высшего класса», «Мисс Рози Ред» и «Турок». Фигуры бегают по сцене, пытаясь соединиться с головами, которые убегают
от них в противоположную сторону. Каждый раз при воссоединении головы и тела раздается победный марш. Гигантская рука кричит: «Стой!», ангел возносится над сценой и щебечет, а персонаж
Э. Т. А. Гофмана в испуге стреляет себе в голову. Невозмутимо раскручивается валик штор, показывая части тела, цифры, объявления. По бокам сценическое пространство венчают фигуры, чье настроение отражают барометры.
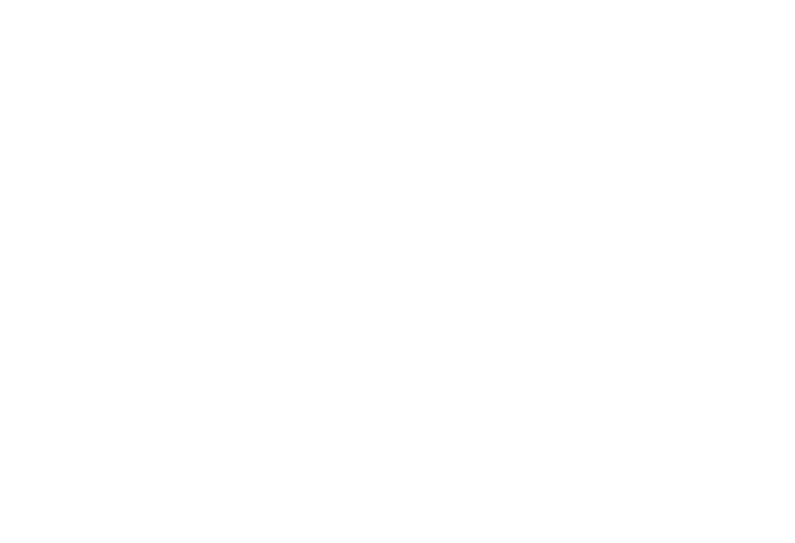
Эскиз к перформансу «Фигуративный кабинет». 1922 г.
Перформанс был тепло встречен – своей механизированной эстетикой
он полностью отвечал идеям Баухауса. Как позже отметил сам Шлеммер,
его моментальное принятие участниками Баухауса было связано с тем, что
у школы давно была потребность в перформативной деятельности, которая,
с одной стороны, отражала бы концепцию «человека и машины», а с другой, иллюстрировала бы абсурд окружающей действительности, который
он продемонстрировал своей первой же работой в стенах Баухауса.
он полностью отвечал идеям Баухауса. Как позже отметил сам Шлеммер,
его моментальное принятие участниками Баухауса было связано с тем, что
у школы давно была потребность в перформативной деятельности, которая,
с одной стороны, отражала бы концепцию «человека и машины», а с другой, иллюстрировала бы абсурд окружающей действительности, который
он продемонстрировал своей первой же работой в стенах Баухауса.
«Ирония судьбы»
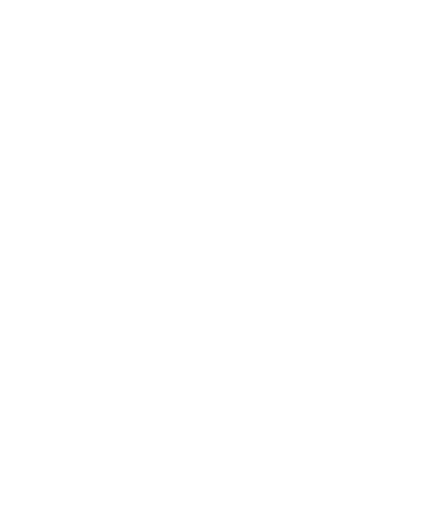
Перформанс «Ирония судьбы» стал еще одним интересным примером развития идей абсурда, над которым Оскар Шлеммер с мастерской работал с 1926 по 1927 год. Шлеммер особенно отмечал в нем намеренно гротескного персонажа «Музыкального клоуна», которого исполнил Андреас Вайнингер. Актера облачили в белый конусообразный костюм, на его правой ноге поместили миниатюрную скрипку, более того, по всему костюму сосредоточились игрушечные саксофон, аккордеон, щеточка для бумаги и зонтик, состоящий только лишь из спиц. Движения в таком костюме были крайне затруднительны, и по замечанию Голдберг актер вынужден был разыграть марионетку самостоятельно – весь костюм был скреплен
с помощью булавок из-за спешки в подготовке перформанса. Это обстоятельство придавало всему еще более комичный абсурдный характер.
с помощью булавок из-за спешки в подготовке перформанса. Это обстоятельство придавало всему еще более комичный абсурдный характер.
Костюмы, которые создавал Шлеммер для своих постановок, представляли собой нагромождение простых форм и, по существу, не одежду, а «носимую скульптуру», которая задает актеру определенные законы движения. В такой ситуации человек и скульптурная форма (из металла, древесины и папье-маше), в которую он был облачен, создавали единый организм. Таким образом, художник предложил идеи развития нового театра.
«Триадический балет»
Важнейшим произведением, отразившим основные принципы подхода
к перформативному искусству по Шлеммеру, стал Триадический балет. Впервые поставленный студентами его мастерской в родном для Шлеммера Штутгарте в 1922 году, этот перформанс стал наиболее удачный в отношении гастролей.
Триадический балет стал настоящим торжеством возможностей костюмирования в контексте абстрактного театра. Здесь представлены все ключевые элементы Шлеммеровской работы с формой – это и вариативность материалов, и геометрическое разнообразие составных частей костюма,
и сами возможности движения, которые были заключены во всех перечисленных приемах (так, например, во второй части балета был актер, облаченный в «костюм-поршень», а в третьем – костюмы некоторых актеров представляли собой вертикальные цветные диски, которые словно фрагментировали их тела в продольном разрезе).
к перформативному искусству по Шлеммеру, стал Триадический балет. Впервые поставленный студентами его мастерской в родном для Шлеммера Штутгарте в 1922 году, этот перформанс стал наиболее удачный в отношении гастролей.
Триадический балет стал настоящим торжеством возможностей костюмирования в контексте абстрактного театра. Здесь представлены все ключевые элементы Шлеммеровской работы с формой – это и вариативность материалов, и геометрическое разнообразие составных частей костюма,
и сами возможности движения, которые были заключены во всех перечисленных приемах (так, например, во второй части балета был актер, облаченный в «костюм-поршень», а в третьем – костюмы некоторых актеров представляли собой вертикальные цветные диски, которые словно фрагментировали их тела в продольном разрезе).
Постановка имела трехчастное деление, и в каждой части цикла выступало два танцовщика и одна танцовщица. Первая часть была окрашена в желтый
и выражала комедию и бурлеск, вторая – в розовый и была выражением торжественной церемонии, а последняя, черная, отражала мистику
и фантастику.
и выражала комедию и бурлеск, вторая – в розовый и была выражением торжественной церемонии, а последняя, черная, отражала мистику
и фантастику.
Реконструкция «Триадического балета»
Перформанс не имел декораций и строился исключительно на работе чистых форм и цвета в движении. Идентичность человека могла быть полностью изменена под влиянием архитектонической формы, которую он надел на себя во время игры. По мнению Шлеммера, пространство прежнего классического театра (под которым он понимал театр драматический) было полностью подчинено человеческой драме, в задаче же нового, абстрактного, театра Шлеммер видел постановку человека и пространства в равное соподчинение.
В 1977 году известный балетмейстер Герхард Бонэр придумал новую хореографию для «Триадического балета» в костюмах Шлеммера. Постановка быстро стала очень популярной, объехала Европу и Америку. За почти десять лет ее исполнили 85 раз. Поскольку хореография самого Шлеммера частично сохранилась лишь в его рисунках и фотографиях спектаклей, последующие реконструкции стали своеобразными вольными интерпретациями балетмейстеров, хоть и в оригинальных костюмах.
В 2014 году состоялась реконструкция постановки 1970-80-х гг. под названием «Триадический балет, Шлеммер – Бонэр – Хеспос». Балет был исполнен так же 85 раз. По рассказам актеров, выступать в таких костюмах оказалось крайне сложно: режиссеры постановок не упростили задачу использованием современных материалов, а использовали оригинальные. Актеры, как и сто лет назад, засвидетельствовали, что, выступая в таком костюме, превращаешься в архитектурно-скульптурную форму и отчасти теряешь свои возможности как человеческого существа.
В 1977 году известный балетмейстер Герхард Бонэр придумал новую хореографию для «Триадического балета» в костюмах Шлеммера. Постановка быстро стала очень популярной, объехала Европу и Америку. За почти десять лет ее исполнили 85 раз. Поскольку хореография самого Шлеммера частично сохранилась лишь в его рисунках и фотографиях спектаклей, последующие реконструкции стали своеобразными вольными интерпретациями балетмейстеров, хоть и в оригинальных костюмах.
В 2014 году состоялась реконструкция постановки 1970-80-х гг. под названием «Триадический балет, Шлеммер – Бонэр – Хеспос». Балет был исполнен так же 85 раз. По рассказам актеров, выступать в таких костюмах оказалось крайне сложно: режиссеры постановок не упростили задачу использованием современных материалов, а использовали оригинальные. Актеры, как и сто лет назад, засвидетельствовали, что, выступая в таком костюме, превращаешься в архитектурно-скульптурную форму и отчасти теряешь свои возможности как человеческого существа.
Золотой шар, проволочная фигура, спиральная фигура, танцор-диск —
все эти костюмы выполняли ту роль, которую до Шлеммера в театре выполнял сюжет. Они диктовали танцору его роль. Имея в распоряжении мастерские Баухауса, Шлеммер за собственные деньги (часто последние) изготавливал нарочито объемные, фантастические наряды и не ограничивал себя
в фантазиях и экспериментах с разными материалами: костюмы для артистов собирались из металла, тканей, проволоки, дерева. Громоздкие и массивные, они ограничивали танцора в движении, и таким образом диктовали ему небольшой набор доступных жестов и пластику. Нарочитый объем костюма превращал человека в типаж: за ним невозможно было разглядеть пол
и фигуру, а для надежности эффекта на лицо надевалась маска, лишая героя индивидуальных черт.
все эти костюмы выполняли ту роль, которую до Шлеммера в театре выполнял сюжет. Они диктовали танцору его роль. Имея в распоряжении мастерские Баухауса, Шлеммер за собственные деньги (часто последние) изготавливал нарочито объемные, фантастические наряды и не ограничивал себя
в фантазиях и экспериментах с разными материалами: костюмы для артистов собирались из металла, тканей, проволоки, дерева. Громоздкие и массивные, они ограничивали танцора в движении, и таким образом диктовали ему небольшой набор доступных жестов и пластику. Нарочитый объем костюма превращал человека в типаж: за ним невозможно было разглядеть пол
и фигуру, а для надежности эффекта на лицо надевалась маска, лишая героя индивидуальных черт.
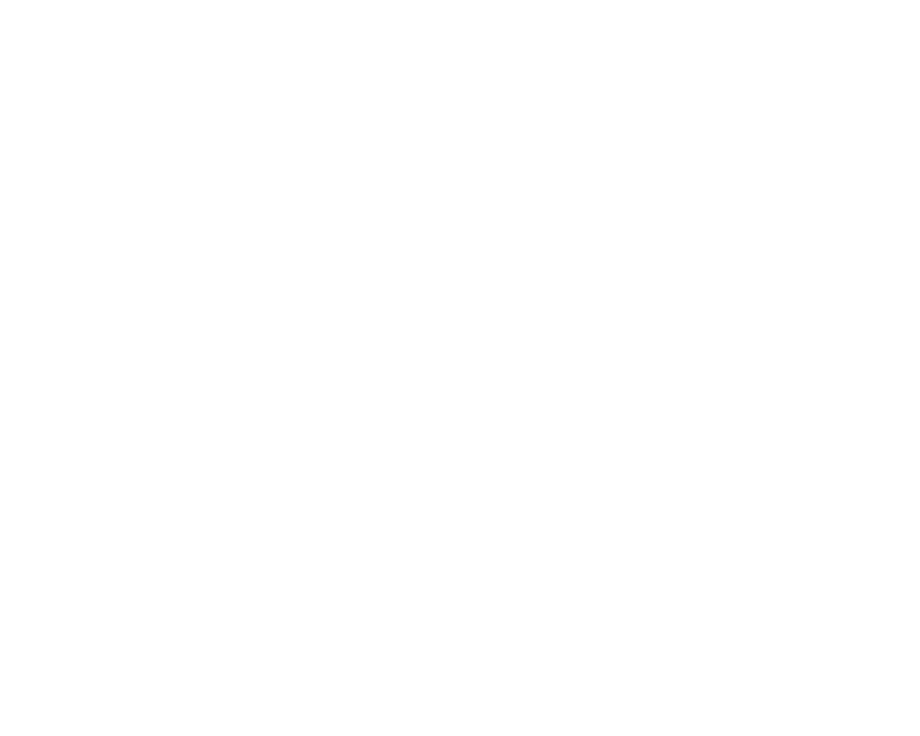
Слева: костюм Оскара Шлеммера. Справа: костюм японского дизайнера Кансая Ямамото, созданный для Дэвида Боуи в начале 1970-х.
Танцоры, облаченные в мотки проволоки или огромные металлические диски, с масками-шлемами на головах, двигались как марионетки или механические куклы. Костюм наращивал
на человеке дополнительный смысл, а иногда
и создавал броню, защиту от окружающего мира, делал пространство вокруг понятным,
а движения осторожными, продуманными, геометрически точными. Этот эффект
с восторгом приняли и цитировали в ХХ веке звезды мировой величины. Дэвид Боуи — как минимум дважды.
Шлеммер говорил, что его находки кажутся дерзкими и нетрадиционными только
в контексте европейского театра, но вполне вписываются в традицию, если говорить
о театре шире: вспоминая японский и китайский театр, например.
на человеке дополнительный смысл, а иногда
и создавал броню, защиту от окружающего мира, делал пространство вокруг понятным,
а движения осторожными, продуманными, геометрически точными. Этот эффект
с восторгом приняли и цитировали в ХХ веке звезды мировой величины. Дэвид Боуи — как минимум дважды.
Шлеммер говорил, что его находки кажутся дерзкими и нетрадиционными только
в контексте европейского театра, но вполне вписываются в традицию, если говорить
о театре шире: вспоминая японский и китайский театр, например.
Источники:
Артхив
Arzamas
Ottepel Gallery
Савинкина А.С. Театр Баухауса: эксперименты Оскара Шлеммера, 2021.
Артхив
Arzamas
Ottepel Gallery
Савинкина А.С. Театр Баухауса: эксперименты Оскара Шлеммера, 2021.